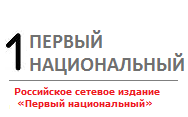Поиск по материалам: |
Главная → Хроника событий ↔ Проект «Союз нерушимый»
Исчезнут ли поэты в России или как защитить авторское право
Рубрика: Проект «Союз нерушимый»
Автор публикации: Российское информационное агентство «Национальный альянс»

Опубликовано: 27/09/2018 11:52
Исчезнут ли поэты в России или как защитить авторское право
Как живут сейчас российские поэты, где черпают вдохновение, может ли творческий дар прокормить, какое будущее у поэзии видится в технократический век? Об этом и другом разговор с Ксенией Давыдовой. Ее пост в соцсети привлек внимание – в нем она рассказывала о нарушении ее авторских прав.
– Расскажите о себе. Как вы считаете, стихи – это призвание или профессия? Можно ли заработать, занимаясь таким видом творчества?
 – Я родилась в московской семье, где мама – занимается литературным творчеством, но больше для себя. А папа – относится к научной интеллигенции, я бы даже сказала, что он современный гений, который сейчас реализует научный потенциал больше за рубежом, хотя очень бы хотел это делать в России.
– Я родилась в московской семье, где мама – занимается литературным творчеством, но больше для себя. А папа – относится к научной интеллигенции, я бы даже сказала, что он современный гений, который сейчас реализует научный потенциал больше за рубежом, хотя очень бы хотел это делать в России.
Училась в обычной столичной школе и от нее у меня осталось больше негативных воспоминаний, чем положительных. В детских воспоминаниях зафиксировалось, что там всё время были какие-то денежные сборы. Потом отец был вынужден по работе поехать в Англию и взял нас с мамой с собой. К моему удивлению, там увидела, что обучение действительно может быть бесплатным, что напоминало Советские Союз по тем детским книгам, которые читала.
Более того, в каком-то смысле, английская королева дополнительно стимулировала развитие моих творческих способностей, которые там открылись – она выделяла деньги школам для развития одарённых детей.
Получается – писать стихи научилась сама и, возможно, не без помощи английской королевы. С другой стороны, в развитии способностей помогли классические поэты, у которых пыталась учиться. Люблю читать на разные темы: поэтику, философию, историю, религию, мифологию, языкознание, палеолингвистику, беллетристику разных жанров. Могу работать одновременно над несколькими сюжетами и заниматься с легкостью многими другими делами.
Родные и близкие воспринимают моё поэтическое увлечение по-разному.
Думаю, что стихи – это и призвание, и профессия. По крайней мере, всегда так считала и подходила к этому занятию ответственно. Поэтому многие произведения неоднократно переписывала для гармонии ритма и рифмы. Заработать, занимаясь таким видом творчества, на мой взгляд, нельзя. Я ошибалась, когда думала, что можно, ведь в современной России со сложившимся укладом, творческий дар становится лишним.
– Когда возникла потребность называть себя поэтом или поэтессой, как правильно? Зачем несколько псевдонимов, что за ними скрываете и что они означают?
– Писать стихи начала рано. Правильнее – поэт, потому что с самого начала ощущала себя прежде всего личностью, а не девочкой-девушкой. Поэтому почти все мои стихи, за исключением нескольких любовных, написаны от мужского рода. Часто приходилось слышать замечания от мужской аудитории средних лет, что мои стихи больше похожи на мужские.
Аксиния Давыдова – первый псевдоним. Мне не нравилось мое имя, оно казалось резким. Поэтому решила смягчить его казачьей просторечной формой – Аксиния, а фамилию не менять, чтобы не было проблем с доказательством авторских прав. К тому же тогда, близость к народу была созвучна с моим творчеством.
Другой псевдоним – Даннаис дде Даненн появился, кажется, в конце 2013 или начале 2014 года, когда внимание привлекла кельтская мифология, жанр фэнтези, артуриан и конланг (конструирование языков и письменностей). Этот псевдоним – синтез кельтской мифологии и одного из моих конлангов. С другой стороны, в семье ходила легенда о том, что предки были с Британских островов из ирландских племен Туата де Даненн – рода Богини Дану – завоевавших Ирландию. Так произвела новое имя Даннаис от выражения «посвящённая Дану», два «дд» в артикле, вроде для того, чтобы было отличие от мифологического племени, а Даненн осталось неизменным. Кстати, племя считалось сведущим в изящных искусствах.
Псевдоним – Xena von Davydoff больше рассчитан на иностранную аудиторию для моих английских стихов, представляет адаптированную вариацию паспортного имени и фамилии, потому что народная форма Аксиния Давыдова не была бы понятной за рубежом. В этом случае и от паспорта не так далеко, а в тоже время совсем другая форма имени и воспоминание о прусских предках. У меня в роду много чего понамешано; пруссы, литвины, англичане, шотландцы, ирландцы, итальянцы, грузины, французы, а из древних народов – кельты, римляне, скифы, соотечественники самого Чингис Хана и ещё бог знает какие племена, теперь уже забытые.
– Кто для вас в поэтическом мире – учитель? Чьи стихи – помогают или вдохновляют? Кто ваша аудитория? Можете определить свой стиль?
– У меня было много учителей. Это другие поэты и в разное время – разные. Было время я увлекалась больше одним стилем, потом – другим. Это были Павел Давыдович Коган (советский поэт романтического направления) с его бунтарским романтизмом и «Бригантиной», Джордж Байрон и Михаил Лермонтов с их тоской и мятежностью, авторы многочисленных готических романов XIX века, Роберт Стивенсон с его стихами и романами, Владимир Семёнович Высоцкий с рыцарскими балладами и песнями про войну, мифологии разных времён и народов, философские труды, апокрифы Древних Христиан, Толкиен с его Средиземьем… последний больше в открытие тех источников, которыми он сам пользовался при создании своих трудов.
Сложно сказать, кто моя аудитория. Совсем недавно думала, что её нет. По крайней мере, меня так заставили думать после годов отверженности в России, когда считала, что мои стихи и творчество никому не нужно.
Но однажды обнаружила, что стихи эксплуатируют без моего ведома. Например, нашла мои детские стихи «Ода Красному Знамени» и «Как медвежонок Кузя праздновал Масленицу» в современной школьной и дошкольной программе для проведения праздников передачи Красного Знамени и Масленицы. Всё это анонимное торжество с моими стихами длится уже лет восемь, а может и десять.
Как такое вообще возможно: сначала стихи были раскритикованы, как и сам автор, теперь же – по ним воспитывают молодёжь?!
Кроме вышеперечисленных стихов, еще нашла, что другое стихотворение «Горит свеча», написанное к десятилетию бомбардировок Югославии, используется анонимно для акции в честь погибших в Великой Отечественной Войне. Стихотворение «В память ушедших», бродит по интернету также без указания моего авторства.
Тоже можно сказать и об «Оде Красному Знамени», которое относится к моему революционному циклу и никак не связано с современной Россией. Кажется странным отношение к строчкам, где упоминается, что знамя «Ока Русского – это зеница». Эти строки были изъяты из стихотворения неизвестным цензором. Возможно, что именно из-за слова «русский».
Стихотворение «Как медвежонок Кузя праздновал Масленицу» не имеет никакого отношения к ставшему в последнее время очень модным празднику, к которому его «приписывают». История медвежонка Кузи – это часть моей жизни. Эта игрушка – подарок одного калифорнийского профессора, близкого друга нашей семьи. В своё время он пожелал стать моим названным дедушкой и каждый год дарил подарки, ценил моё творчество. Когда же после завершения работы во Франции моя семья вернулась в Россию, то мы оказались, буквально, в нищете (отец с его научными заслугами вынужден был пойти на биржу труда), то пришлось продать этот дорогой для меня подарок. В то время, как мы нуждались, это стихотворение использовали и никого не интересовал авторский политес. В этот сложный период нашу семью поддержали научные коллеги отца – два профессора Дэвид Шапиро и Соломон Перло из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Оба – пенсионеры, одному уже – 95 лет и он участвовал ещё во Второй Мировой простым солдатом, а другому – 75 лет и он до сих пор защищает и лечит почти бесплатно рабочих иммигрантов из Латинской Америки.
У меня разный стиль. В подростковом возрасте, чего лукавить, «болела» Революцией, Красной Армией, Комсомолом. Мне хотелось оказаться во времена Гражданской войны и героически умереть, едва ли дожив до 18. Потом поняла, что это не моё. Может быть разочаровала реакция моих читателей.
Таким образом, лет до 16-17 у меня были патриотические и революционные стихи. Потом пробовала себя в детских стишках и сказках, искала другие идеалы, открыла для себя философию и тогда впервые зазвучали темы рыцарства.
Любовных стихов у меня мало, это ставили мне в упрёк мои читатели. Почему-то считается, что раз уж ты девушка, то должна быть пустышкой, которая, если и пишет, то только какие-нибудь «розовые сопли». Никогда не была такой и любовные произведения написала только затем, чтобы у меня хоть что-то было на эту тему, на мой взгляд, достаточно заезженную и даже неискреннюю сейчас: если постоянно говорить «люблю», любовь не появится. Будет только обман, что в каком-то смысле, сегодня и представляет из себя современная любовная поэзия.
Потом был период символизма. В этом мне стал учителем Константин Андреевич Сомов. Это русский живописец, мастер портрета и пейзажа, основатель общества «Мир искусства». Его картина «Эхо прошедшего времени» произвела на меня большое впечатление. Повлияли на меня и произведения некоторых других художников из этого объединения. С той поры эта тема нет-нет, да и появится у меня в стихах или в романе.
Был период упадничества в стихах, сейчас – возвращаюсь к стилю средневековых баллад, фэнтези с эльфами, таинственным Камелотом и его рыцарям. Но философская тема – это часть меня.
– «Поэт в России – больше, чем поэт» хрестоматийная строка из поэмы «Братская ГЭС» (1965г.) Евгения Евтушенко говорит о степени влиянии на общество поэтических строк и личности их автора. Крылатая фраза, сложившаяся в устах поэта, пришла к нам из прошлого и философии страны, которой уже нет. На ваш взгляд, смысл ее восприятие не изменился?
– Мне кажется, что истинные поэты в России всегда были кем-то вроде отверженных. Вспомните того же Владимира Семёновича Высоцкого или Сергея Александровича Есенина. Если бы эта фраза была правдой, разве они завершили бы свои жизни так плохо и так рано? Перефразируя Пушкина, можно сказать, что Гений и Талант с Россией несовместимы. Вспомните, чем кончили он и Лермонтов. Люди, наделённые поэтическим даром, слишком чувствительные и ранимы, а пол в данном вопросе уже не имеет никакого значения. Поэты воспринимают окружающий мир под несколько другим ракурсом, влияющим на творчество.
Иногда кажется, что Россия, словно, специально убивает физически или морально поэтов, осознанно ли или нет, я не знаю. Есть много примеров этому, помимо Высоцкого и Есенина. Можно вспомнить того же Павла Давыдовича Когана, его строки: «Я, наверное, родился рано или поздно, мне не понять…». Эти строки совпадают с раздумьями о моем месте в этом суматошном мире.
– Век информации и интернета – что это означает для вашего творчества? Это помогает или создает проблемы? Возникают строки, посвященные цифровым технологиям?
– Думаю, и помогает, и создаёт проблемы в равной степени. Всегда вспоминаю те времена, когда к поэтам или странствующим менестрелям относились, как к кому-то особенному. Считалось, что они наделены магией слова, что хвалебная песня, которой они должны будут закончить визит, может и принести счастье и процветание королю и его подданным, а может и наоборот – навести на них беды. Те времена минули. На поэтов смотрят в лучшем случае, как на непрактичных сограждан.
В творчестве придерживаюсь строгих идеалов, в крайнем случае, середины ХХ века. Мне кажется, что описывание технологий в стихах ведёт к какому-то развращению и уничтожению красоты и гармонии в поэзии, которое складывалось веками. Вроде, как не нами начато, не нам это дозволено закончить. Я против того, чтобы уподоблять священный дар поэзии пластиковым бутылкам и гаджетам. У меня есть строгие принципы, и стараюсь их придерживаться. К сожалению, в России об этом забывают. Поэтому моё творчество, в лучшем случае, оценивалось разновозрастной аудиторией вроде «архаичного» или «слишком умного». Мне давали понять, что народу это не нужно, а нужно что-нибудь попроще, вроде постельной лирики, СМСок, соцсетей… Не могу так писать. Для меня это равно бесчестию.
– Развитие интернета принесло много проблем с авторским правом. Вас затронула эта тема?
– Казалось бы с развитием интернета появились возможности, не выходя из дома, опубликовать стихи на специализированном сайте, получить свидетельство о публикации с доказательством, что это твоё произведение. Но возникла незащищенность – кто-то может скопировать стихи без твоего ведома, разместить на чужом сайте, привлечь посетителей, которые станут их читать, а потом привлечь рекламодателей и положить деньги себе в карман.
Именно это и произошло с моими стихами.
– В какой творческий союз или объединение вы входите? Ваше творчество только в интернете? Что думаете о качестве поэзии сегодня, если так можно выразиться?
– Несколько лет состояла в так называемой Гильдии. Меня пригласил туда один автор с портала стихи.ру. Это международная гильдия, находящаяся в Германии, но публикующая произведения как на русском, так и на немецком языках, основанная выходцами из России. Когда я вступала туда, то думала, что это в случае чего защитит мои права, поможет с продвижением творчества, позволит получить печатные публикации. На деле оказалось все по-иному –когда потребовалась их поддержка, то обещания оказались пустым звуком. Например, моими стихами воспользовались композитор Вячеслав Титов и вокальная группа ансамбля «Русы» из театра Рюминой. Первый написал музыку на мои стихи «Я люблю деревенские ночи», другие – взяли её в свой репертуар. До сих пор и не знаю, что «Русы» делали и делают с этой песней, а Вячеслав Титов на сайте Российского авторского общества (РАО) указал, что слова у песни от неизвестного автора. При этом композитор лично переписывался со мной, указал мое авторство в афише выступления в театре Рюминой. Но при регистрации песни в РАО обо мне «забыл». Гильдия не вступилась за меня. Все это оставило негативный осадок, я не стала продлевать членство, вступать куда-то нет желания, хотя не против создать своё творческое объединение, но на это нужны средства и правильная маркетинговая политика.
На мой взгляд, качество современной поэзии оставляет желать лучшего. То, что раньше считалось непристойным, теперь очень любят выставлять напоказ и особенно в стихах.
– Над чем работаете сейчас? Какие творческие планы? Помогает в жизни творчество?
– Раньше больше писала стихи, иногда позволяла себе пробовать писать прозу. Теперь всё изменилось. Стихи пишу очень редко и больше для себя, потеряла надежду получать за это достойное вознаграждение. Сейчас пишу серию романов в смешанных жанрах. Это своего рода синтез фэнтези, научной фантастики, приключений в духе XVIII-XIX веков, романтических и авантюрных романов князя Волконского, готики, мистики, детективов и ещё много чего. Это должна быть большая серия. Уже есть несколько готовых книг. Часть из них выложена в интернете, но в более ранней редакции. Теперь уже сомневаюсь – стоит ли публиковать, ведь могут тоже растащить, в том числе, и сюжет, по своим нуждам. Но не писать не могу – это единственное, что хорошо умею делать.
Много читаю в медиа, что публика устала от засилья секса, крови и насилия в книгах, песнях и фильмах. На это могу позволить себе слегка позлорадствовать, ведь в моём творчестве эти три темы отсутствуют, но почему же бизнес не покупает у меня такие произведения, ведь вроде появился потребительский спрос?
В жизни творчество скорее мешает, чем помогает. Оно, как наказание: ты не можешь так, но и не можешь иначе. Иногда, это кажется, замкнутым кругом.
– В прежние времена было принято чувства выражать в стихах - своих или чужих. Как вы думаете – сейчас это уже пережиток прошлого? Или – спасительное средство сохранить духовный мир, остаться человеком во все более упрощающемся потребительском мире? Влюбленные будут читать стихи под луной или пялиться с смартфоны?
– Сложно говорить за всех, я могу сказать только за себя. Считаю, что чувства, как раз и нужно выражать стихами, музыкой, даже теми же картинами или букетами цветов… ведь раньше даже был язык цветов, а теперь на это смотрят, как на останки птеродактиля в музее. Насчёт окружающего мира, могу сказать, пусть это и прозвучит пессимистично, современный мир – это как вы правильно выразились – всё более упрощающийся потребительский мир. Многие влюбленные не будут читать стихи под луной, они даже не поймут, что это такое и зачем. Для них, в лучшем случае, это будет воспоминание о том, что их заставляли учить наизусть в школе. Они будут пялиться в смартфоны, посылать смайлики. Потому, что так проще, а они не хотят заморачиваться. У многих возникли потребности в очень простых личностных отношениях. Даже в мире животных отношения и то более сложные – присутствуют ухаживания и желание привлечь внимание. Сейчас идет пропаганда простоты в жизни без лишних культурных «неудобств». Думаю, постепенно, а может быть и наоборот очень стремительно, натуры подобные мне, станут очень редкими, может вымрут как могикане со своей культурой. Может так произойдет с поэтической культурой и от нее останется жалкий призрак, который каждый будет растаскивать по сайтам и мобильным приложениям в зависимости от той выгоды, в которой есть нужда в данный момент…
– Большое спасибо за разговор. Поэзия вдохновляет, читают стихи тогда, когда есть потребность созвучия эмоций и слов, рифмованные строки, в которые поэт вкладывает душу, призваны мотивировать и исцелять. Это часть российского культурного кода. Но нужен ли этот духовный багаж нынешнему поколению, которое втягивают в социальный дарвинизм? Это тема для еще одного важного разговора, к которому мы вернемся.
Редакция отправит запросы в организации, допустившие нарушение авторских прав Ксении Давыдовой, и будет следить за ситуацией по восстановлению справедливости. Читателей об итогах информируем.
Фото из семейного архива Ксении Давыдовой
Беседовала Виктория Соцкова
Российское информационное агентство «Национальный альянс»
Еще на эту тему:Олег Отрошко,художник из казачьего рода: аллегории и реализм
Литературный Крым: Валерий Митрохин и жизнь в творчестве
Вернуть имена павшим солдатам в Страсбурге
Предложения ярославских ветеранов ждут практического решения
Интернет-кино и независимый проект «Операция Миллениум»
Соотечественники, историческая память и госполитика России в этом вопросе
Патриотическое воспитание и роль государства
Цивилизационные ценности и роль независимых СМИ в цифровых трансформациях экономики
Александр Смирнов-Панфилов: нужно правильно понимать смирение”