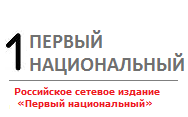Поиск по материалам: |
Главная → Хроника событий ↔ Х-файл. Словесность.Публицистика
Часть I. Церковный раскол и история старообрядчества на Ярославской земле
Рубрика: Х-файл. Словесность.Публицистика
Автор публикации: Радимир Строганов

Опубликовано: 27/12/2017 20:59
Часть I. Церковный раскол и история старообрядчества на Ярославской земле
В истории Ярославской земли по сей день остаётся много «белых пятен». Такие события как основание Ярославля, его роль в период «татаро-монгольского ига», непростые взаимоотношения с укрепляющей свое влияние Москвой, значение города в Смутное время, восстание 1918 года и другие периоды либо окружены завесой тайн и домыслов, либо подменены легендами.
 Одно из таких «белых пятен» – история появления и сохранения в Ярославле и близлежащих городах и сёлах различных направлений старообрядчества.
Одно из таких «белых пятен» – история появления и сохранения в Ярославле и близлежащих городах и сёлах различных направлений старообрядчества.
Это религиозно-культурное явление продолжает привлекать внимание исследователей. Однако современные работы рассматривают в основном общую историю старообрядчества и его течений, а исследования региональных процессов развития староверческих толков, практически, отсутствуют. Предлагаемый очерк имеет целью кратко охарактеризовать общую историю Раскола, а также описать его региональную эволюцию.
Часть I.
Великий раскол русского общества в XVII веке, последовавший за церковной реформой, и прочно связанный в представлении последующих поколений с именем патриарха Никона, явился одним из тяжелейших потрясений в отечественной истории, сравнимый с такими событиями как Смутное время и революции 1917 года. Возникший в ходе реализации реформы общественный конфликт не разрешён до сих пор, а сложившееся представление о её причинах, характере и последствиях далеко не однозначно.
Началом церковной реформы принято считать распространение в 1653 году по храмам Москвы послания патриарха Никона, которое содержало предписание совершать крестное знамение тремя перстами. Однако следует думать, что реформа стала набирать ход намного раньше, её первые шаги можно проследить за несколько лет до указанного события.
В 1648 г. в Москве была выпущена «Книга о вере», написанная игуменом киевского Михайловского монастыря Нафанаилом. Её издание можно считать знаковым событием, показавшим новый взгляд Московской церкви на православную литературу. Со времён патриарха Филарета, возглавлявшего Московскую церковь с 1619 по 1633 гг., и возобновления работы московской типографии началось переиздание цикла богослужебных книг, имевшее целью упорядочение церковных служб в соответствии с определённым стандартом. Образцом для печатания служили рукописные книги на славянском языке. При этом патриарх запрещал использование в богослужебной практике книг на славянском языке, выпущенных в типографиях Литвы, Львова и даже Киево-Печерской Лавры, то есть, на территории Польско-Литовского государства (Речи Посполитой), в котором господствующей религией являлось католичество, а к уже попавшим в страну книгам предлагал применять цензуру.
Считалось, что такие книги содержат исправления, именовавшиеся «латинской ересью», то есть поправки, противоречащие православной традиции. Известно, например, какому внимательному анализу подвергли текст «Учительного Евангелия» Кирилла Ставровецкого. Выяснилось, что книга, изданная типографией Киево-Печерской Лавры, была осуждена в Киеве специальным собором, а московские богословы подвергли её критике по шестидесяти одному пункту. В результате все экземпляры книги, какие только удалось собрать по всему Московскому государству, прилюдно сожгли в столице в 1627 году. «Книга о вере», отпечатанная в Москве при патриархе Иосифе, стала первым изданием, не подвергнутым цензуре. Она содержала основные моменты, демонстрировавшие различия в церковном обряде, принятом в Киевской митрополии, находившейся тогда в юрисдикции Константинопольского Патриархата, с обрядами Московской церкви.
Инициатором издания в Москве «Книги о вере» был Стефан Вонифатьев – протопоп (протоиерей) Благовещенского собора Кремля и духовник молодого царя Алексея Михайловича. Именно Стефан Вонифатьев, совместно с приближённым царя двадцатилетним боярином Фёдором Ртищевым, организовал группу интеллектуалов, которые вошли в историю под именем «ревнители благочестия». Кружок «ревнителей» сформировался в середине 1640-х годов сразу после воцарения Алексея Михайловича. Царь, вступивший на престол в 1645 году в возрасте 16 лет, поддерживал деятельность «ревнителей» и участвовал в их беседах. В кружок входили архимандрит Спиридон (Потёмкин) – дядя боярина Фёдора Ртищева, архимандрит Илларион (будущий архиепископ Рязанский), игумен Павел (будущий епископ Коломенский), настоятель Казанского собора на Красной площади в Москве Иоанн Неронов, справщик Печатного двора Шестак Мартемьянов, а также протопопы Аввакум, Даниил, Логгин, Лазарь и переведённые в Москву соответственно из Юрьевца, Костромы, Мурома и Романова. Видно, что основатели кружка занимались подбором талантливых и образованных церковнослужителей в провинции. Трудно, сказать каким образом они находили друг друга, но в конечном итоге сформировалось общество единомышленников, объединённых желанием изменить духовную жизнь русского общества.
Церковную реформу «ревнители благочестия» видели как изменение практики богослужения и исправление церковных книг. Но для начала активного этапа реформы недостаточно было только поддержки царя – требовалось одобрение патриарха. Московский патриарх Иосиф отличался крайним консерватизмом: он и слушать не хотел о каких-либо изменениях. Хотя дата его рождения точно неизвестна, скорее всего, он был уже стар, поэтому члены кружка «ревнителей» решили подготовить ему преемника из числа сторонников реформ. Для этого по предложению царя в число «ревнителей» ввели архимандрита Новоспасского монастыря Никона (Минова).
Будущий патриарх Никон прибыл в Москву из Прионежья в 1646 году с поклоном царю в качестве игумена Богоявленского Кожеезерского монастыря. Покорённый харизмой Никона и его рассказами о суровой жизни на Севере, Алексей Михайлович повелел ему остаться в Москве. Вскоре патриарх Иосиф возвёл его в сан архимандрита.
В 1649 году произошло событие, непосредственно повлиявшее на вектор развития церковной реформы. В Москву прибыл с визитом Иерусалимский патриарх Паисий. Восточные патриархи нередко наведывались к патриарху Московскому. Возглавляя Православные Церкви в землях, находившихся под властью мусульман и с преобладанием мусульманского населения, они постоянно нуждались в средствах. Поэтому неудивительно, что официальной целью визита патриарха был заявлен сбор пожертвований на украшение храма Гроба Господня. Приняв участие в московских церковных службах, Паисий заметил царю Алексею Михайловичу, что в русских богослужениях имеются отступления от обрядов восточных Православных Церквей.
Кроме того, патриарх Паисий сообщил царю, что ему известно о существовании концепции «Москва – Третий Рим». Считается, что она была изложена в письмах старца псковского Елеазарова монастыря Филофея, которые он отправил великому князю Московскому Василию III Ивановичу в 1523–24 гг. Суть теории состояла в том, что после падения Рима и Константинополя (Второго Рима), именно на Москву легла задача защиты Православия от неверных. Практическая реализация концепции, как представляли себе влиятельные люди в окружении царя Алексея Михайловича, предполагала либо создание единой православной  империи с центром в Москве, либо завоевание Константинополя, захваченного турками, и освобождение всех православных народов от мусульманского владычества. Во втором варианте столицей православной империи должен был стать Константинополь, но под управлением московского царя.
империи с центром в Москве, либо завоевание Константинополя, захваченного турками, и освобождение всех православных народов от мусульманского владычества. Во втором варианте столицей православной империи должен был стать Константинополь, но под управлением московского царя.
В любом случае основой единения освобождённых народов виделось православие, а Москва обретала бы такое же значение, какое имел Рим в католической церкви. Но обязательным условием объединения православных народов должно стать соответствие всех православных церквей единым стандартам в богослужении и книгоиздании. Поэтому текст Священного писания, используемый в Московской церкви, должен соответствовать греческой Септуагинте (переводу Семидесяти Толковников).
Царь обратился за советом к «ревнителям благочестия»: где взять правильный греческий текст? Ранее все исправления богослужебных книг в Московском государстве осуществлялись по старым рукописным текстам на церковнославянском языке. Такое исправление считалось единственно возможным, поскольку было утверждено решением Стоглавого собора в 1551 году. Собор, на котором рассматривался вопрос об однообразии текстов, постановил, что при подготовке печатных текстов следует использовать рукописи, содержащие наименьшее количество ошибок – «писать с добрых переводов». Наиболее авторитетные священники из числа членов кружка Стефан Вонифатьев и Иоанн Неронов ответили, что образец для сверки следует искать в Афонских монастырях, но заметили, что путь туда долог и опасен. Фёдор Ртищев намекнул, что проще было бы пригласить в Москву «справщиков» со стороны – учёных монахов, владевших обоими языками, для сравнения греческого и славянского текстов и исправления ошибок. Он ещё в 1646 году по согласованию с царским духовником направил письмо игумену Киево-Печерского монастыря Зосиме с просьбой прислать подходящих людей из числа братии для организации в Москве духовного училища. Киев пообещал прислать монахов, но процесс затянулся: к 1649 году никто из них в Москву так и не приехал.
Пока решался вопрос о «справщиках», патриарх Паисий представил царю одного из своих спутников – иеромонаха Арсения, который знал греческий и латинский языки. Арсений, получивший по своему происхождению прозвище Грек, присоединился к свите патриарха в Киеве, через который посольство направлялось в Москву. В беседе с Алексеем Михайловичем он предложил практические шаги к реализации концепции «Москва – Третий Рим», в число которых входил и вооружённый конфликт с Речью Посполитой с целью освобождения православного меньшинства, угнетаемого католиками и униатами – сторонниками греко-католической церкви. Эта война, известная в историографии как Тринадцатилетняя, действительно начнётся по инициативе московского царя в 1654 году.
Алексею Михайловичу так понравилась образованность монаха, что Арсению было предложено остаться в Москве. В столице была спешно организована греко-латинская школа, в которой Арсений Грек стал преподавателем, поэтому следует думать, что этот загадочный монах, который по официальной версии никогда не бывал прежде в Московском государстве, хорошо владел русским языком. Возможно, он изучил его, находясь в Литве, в которой русский язык являлся общеупотребительным.
Преподавательская деятельность Арсения Грека оказалась недолгой. Возвращаясь на родину через Киев, патриарх Паисий получил сведения, дискредитирующие Арсения. Выяснилось, что тот родился в еврейской семье, принявшей православное христианство, учился в Венеции и Риме, перейдя для этого в католичество. В Падуанском университете, который находился под контролем ордена иезуитов, он обучался философским и врачебным наукам. В возрасте двадцати трёх лет вернулся в Грецию и стал православным монахом. Арсений путешествовал по Восточной Европе, в Варшаве вылечил польского короля от «каменной болезни» и с королевской рекомендацией появился в Киево-Могилянской коллегии. В Киеве Арсений и встретился с Иерусалимским патриархом, которого также подкупил своем образованностью. Но Паисий не знал, что Арсений уходил в католичество, а это в глазах патриарха являлось тяжким грехом. Патриарх написал в Москву обличительное письмо, там устроили разбирательство, обвинения подтвердились. Арсений раскаялся и по суду был сослан в Соловецкий монастырь.
Находясь в Москве, патриарх Паисий неоднократно встречался и с архимандритом Никоном, обсуждая различия русской и греческой церковно-обрядовой практики. После этих встреч патриарх через Посольский приказ предоставлял письма в адрес царя, в которых хвалил государя за удачный выбор Никона в качестве приближённого лица. Понятно, что встречи Паисия и Никона происходили с согласия «ревнителей благочестия». Не исключено также, что за письма, положительно характеризующие Никона, Паисий получал от них вознаграждение. За то время, в течение которого Никон являлся архимандритом Новоспасского монастыря, где находилась усыпальница бояр Романовых, он приобрёл значительную популярность.
Проявив себя талантливым руководителем, заведя строгие порядки, упорядочив богослужения по образцу северных монастырей и организовав ремонтные работы, Никон привлёк внимание москвичей. В монастырь стал часто наведываться царь Алексей Михайлович. Когда стало известно о близости Никона к царю, к архимандриту потекли челобитные с различными просьбами. Значение Никона росло и в глазах монарха. В итоге царь, который и без того благосклонно относился к Никону, порекомендовал «повысить» его: Иерусалимский патриарх возвёл Никона в сан митрополита, а Московский патриарх назначил его на Новгородскую кафедру.
В том же 1649 году был сделан первый шаг церковной реформы – принятие Соборного уложения – свода законов, который менял взаимоотношения светской и церковной власти. Согласно Уложению, создавался Монастырский приказ. Этот государственный орган должен был контролировать монастырские владения, которые выводились из ведения патриарха. Отныне доход с монастырских владений уходил не в казну патриарха, как раньше, а в царскую казну. Данное изменение не относилось к личным владениям патриарха, что являлось своего рода компромиссом. Ограничивалась и судебная деятельность монастырей по отношению к крестьянам, находившимся в их подчинении.
Фактически Уложение стало первым шагом реформирования церковно-государственных отношений, которое закончилось отменой патриаршества и учреждением Святейшего Синода уже при Петре I. Архиереи, вынужденные принять Уложение, в большинстве отнеслись отрицательно к ограничению своих прав, но только митрополит Никон решился на деле выступить против новых порядков. Он обратился к царю и получил от него привилегию сохранять за собой право суда над людьми церковного ведомства и наблюдения за церковной экономикой. Более того, Никон получил право надзора за государственным судом в пределах Новгородской митрополии, которую он возглавлял.
На рубеже 1649–1650 гг. в Москву наконец стали прибывать обещанные киевские монахи во главе с Епифанием Славинецким. Расположившись в Андреевском Преображенском монастыре на Воробьёвых горах, открытом специально для размещения духовного училища, киевские монахи сформировали «Учительное братство» и вместо создания училища занялись оценкой московской книжности. В своих встречах со Стефаном Вонифатьевым и царём Алексеем Михайловичем, а также с патриархом Иосифом Епифаний Славинецкий указывал на выраженное несоответствие богослужебных книг греческим канонам и впервые высказал мысль о несогласованности текстов Священного писания.
Он утверждал, что единственно возможным источником для «книжной справы» могут стать книги, используемые в Афонских монастырях и Константинополе. Некоторые члены кружка «ревнителей благочестия» доказывали, что современные печатные книги произведены в Европе, в частности – в Венеции, а также в открытых «латинянами» типографиях в Константинополе и не могут использоваться для исправления. Но патриарх Иосиф, который, как известно, не отличался большой учёностью, попал под влияние авторитета Епифания и сменил свой прежний консерватизм на более благосклонное отношение, если не к реформе Церкви в целом, то к исправлению богослужебных книг.
В течение следующих трёх лет «Учительное братство» подготовило к печати нескольких богослужебных книг, используя в качестве образца киевские издания. Организация же духовного училища, ради которой и приглашали монахов, всё время откладывалась.
15 апреля 1652 года Московский патриарх Иосиф скончался. На пост его преемника было представлено двенадцать кандидатов, среди которых выдвигались и члены кружка «ревнителей благочестия» Стефан Вонифатьев и игумен Пафнутьево-Боровского монастыря Павел. Царь предложил кандидатуру митрополита Новгородского Никона. Уже при первой аудиенции у царя новоизбранный патриарх вынудил его дать обещание не вмешиваться в дела церкви, а также выхлопотал прощение для опального Арсения Грека.
Распространение в 1653 г. предписания Никона совершать крестное знамение тремя перстами, известное как «Память», стало неожиданностью для многих членов кружка «ревнителей благочестия». Троеперстие противоречило актам Поместного Стоглавого Собора 1551 года, закрепившим двоеперстие. Единственным источником, содержащим теоретическую основу учения о троеперстии, являлась на тот момент книга «Сокровище» греческого митрополита Дамаскина Студита – собрание проповедей, изданное в Венеции на греческом языке в 1528 году. В Москве о существовании книги не знали, информацию о ней и, соответственно, теоретическое обоснование троеперстия Никон мог получить только от киевских монахов.
 Большинство членов кружка «ревнителей благочестия», считавших необходимым строгое соблюдение правил Стоглавого Собора, не поддержали обрядовые изменения, введённые Никоном. Они направили царю грамоту «о сложении перст и о поклонех», составленную протопопами Аввакумом и Даниилом, в которой критиковали введённые патриархом изменения. Реакция Никона была незамедлительной: Аввакум, Даниил, Иоанн Неронов и другие были арестованы. Протопоп Аввакум Петров провёл три дня в подземелье Спасо-Андроникового монастыря, но отказался признать нововведения и был сослан в Тобольск. Общество реформаторов прекратило своё существование. Впоследствии все «ревнители благочестия», не согласные с патриархом, так или иначе пострадали за свои убеждения, а реформа Церкви пошла совсем другим путём, чем они себе представляли.
Большинство членов кружка «ревнителей благочестия», считавших необходимым строгое соблюдение правил Стоглавого Собора, не поддержали обрядовые изменения, введённые Никоном. Они направили царю грамоту «о сложении перст и о поклонех», составленную протопопами Аввакумом и Даниилом, в которой критиковали введённые патриархом изменения. Реакция Никона была незамедлительной: Аввакум, Даниил, Иоанн Неронов и другие были арестованы. Протопоп Аввакум Петров провёл три дня в подземелье Спасо-Андроникового монастыря, но отказался признать нововведения и был сослан в Тобольск. Общество реформаторов прекратило своё существование. Впоследствии все «ревнители благочестия», не согласные с патриархом, так или иначе пострадали за свои убеждения, а реформа Церкви пошла совсем другим путём, чем они себе представляли.
Можно сказать, что раскол всего русского общества, который последовал за официальным утверждением новых церковных установлений Московским собором 1654 года, начался с раскола среди идеологов реформы – членов кружка «ревнителей благочестия». Этому способствовал неоднородный состав кружка: в него входили как представители высшей церковной иерархии, так и представители простого духовенства, хотя и приближённые к царю, а также светские лица. Все «ревнители» желали церковной реформы, но видели её по-разному. Большинство полагало, что достаточно строгого следования церковным уставам и постановлениям Стоглавого Собора 1551 года, от которых церковь к тому времени частично отступила, но некоторые желали от реформы иных результатов.
В частности, Никон считал необходимым не только преобразование церковной практики, но главным образом – изменение взаимоотношений церкви и государства. Государство, по его мнению, должно было стать если не подчинённым, то, по крайней мере, подконтрольным церкви, а царь – не столько фигурой государственной, сколько духовной, согласующей все свои действия и решения с мнением предстоятеля. Иными словами, Никон видел будущее Московского государства в теократической монархии. И в этом он полностью расходился в планах с царём и партией «ревнителей благочестия», которые желали поставить во главе освобождённых от мусульманского владычества православных народов московского царя и сохранить зависимое положение православных церквей от Москвы. Никон понимал, что провести реформу в нужном ему направлении он сможет, только если займёт патриарший престол. Он знал, что Алексей Михайлович видит именно в нём преемника патриарха Иосифа. Поэтому, вступив в члены «ревнителей» и ожидая своего часа, Никон не противоречил идеям, выдвигаемым царским окружением.
В 1653 г. «Учительным братством» была подготовлена новая редакция Служебника – основной богослужебной книги, содержащей тексты, произносимые священниками и диаконами во время богослужения. В нём впервые была впервые произведена замена имени Исус на Иисус, а также выполнено изменение содержания символа веры. Весной следующего года эти изменения были официально утверждены поместным собором.
Никон требовал, как можно скорее ввести в обиход по всей стране новый Служебник. К его распространению подключили Тайный приказ. При поддержке «приказных» стрельцов уполномоченные Никона начали совершать рейды по епархиям и производить замену старых книг на новые, нередко используя насильственные меры. Описаны случаи, когда такие походы завершались прилюдным сожжением старых книг и рукописей, а также усмирением недовольных прихожан. Руководил процессом ускоренной «замены» старых книг на новые возвращённый из соловецкой ссылки Арсений Грек. В дальнейшем, после выхода постановления патриарха об изменениях в иконографии, кроме книг стали изымать и сжигать иконы, на которых имя Христа изображалось по-старому. Естественно, что подобные действия властей, обрастая в народе многочисленными слухами, приводили к возникновению волнений среди населения по всей стране. Жители Московского государства разделились на два лагеря: сторонников старого обряда (старообрядцев) и тех, кто поддерживал реформы (никониан). По понятным причинам вначале противников реформы было значительно больше, чем её сторонников. Между ними происходили столкновения, причём известны факты нападения сторонников старого обряда на приходы никониан.
 Московский патриарх понимал, что для официальной ратификации реформы необходима её поддержка предстоятелями других православных церквей. В начале 1656 года он организовал новый собор, на котором присутствовали Антиохийский патpиаpх Макаpий, Сеpбский патpиаpх Гавpиил, Hикейский митpополит Гpигоpий и митрополит всея Молдавии Гедеон. Решением Собора двоеперстие было осуждено, а крестящиеся по-старому признаны еретиками и прокляты. Тем самым разделение общества было утверждено соборно, и гонения на старообрядцев начались уже со стороны Государства. Сомневающиеся сразу перешли в стан сторонников реформы, а её противники оказались в меньшинстве. Решение о проклятии всех крестящихся двоеперстно было ещё раз подтверждено на Большом Московском соборе 1666–67 гг., том самом, который осудил деятельность Никона, извергнув его из священства и оставив простым монахом.
Московский патриарх понимал, что для официальной ратификации реформы необходима её поддержка предстоятелями других православных церквей. В начале 1656 года он организовал новый собор, на котором присутствовали Антиохийский патpиаpх Макаpий, Сеpбский патpиаpх Гавpиил, Hикейский митpополит Гpигоpий и митрополит всея Молдавии Гедеон. Решением Собора двоеперстие было осуждено, а крестящиеся по-старому признаны еретиками и прокляты. Тем самым разделение общества было утверждено соборно, и гонения на старообрядцев начались уже со стороны Государства. Сомневающиеся сразу перешли в стан сторонников реформы, а её противники оказались в меньшинстве. Решение о проклятии всех крестящихся двоеперстно было ещё раз подтверждено на Большом Московском соборе 1666–67 гг., том самом, который осудил деятельность Никона, извергнув его из священства и оставив простым монахом.
Звезда патриарха Никона недолго стояла в зените. С самого начала своего патриаршества Никон вступил в открытую конфронтацию с Монастырским приказом, фактически, саботируя его деятельность. Он постоянно расширял границы собственной патриаршей области, доход с которых в государственную казну не поступал. Многие земли жаловал патриарху царь. Никон приобрёл значительные территории в Архангельском, Вологодском, Новгородском и Тверском краях, рыбные ловли в районе Казани и Астрахани, основал три монастыря: Иверский на Валдае (1653 г.), Крестный на острове Кий возле устья Онеги в Белом море (1656 г.) и Воскресенский Новоиерусалимский под Москвой (1656 г.), которые находились в его личной собственности. До Никона в патриарших владениях числилось 10 тыс. крестьянских хозяйств, при Никоне их количество возросло до 25 тыс.
В 1654 году Московское государство вступило в вооружённый конфликт с Польско-Литовским королевством – Речью Посполитой. В течение первых двух лет войны царь Алексей Михайлович часто и подолгу отсутствовал в столице, находясь в расположении войск. Фактическим правителем в этот период являлся патриарх. Однако его экономическая деятельность, направленная преимущественно на борьбу с ограничениями имущественных прав церкви и укрупнение патриарших владений, что фактически привело к возникновению государства в государстве, начала отрицательно сказываться на пополнении казны, которое имело особое значение в военный период. Это во многом повлияло на развитие финансового кризиса, спровоцированного начатой ещё в 1654 г. денежной реформой.
Выступая в боярской думе, Никон часто обличал бояр в корысти и опасной политический игре с иностранцами. Бояре не любили критики, и постепенно начали формировать оппозицию патриарху, которую возглавили Стрешневы – родственники царя по матери и Милославские – родственники царицы Марии Ильиничны. Но царь пока мало обращал внимание на дурные известия. Вообще, с началом войны он практически перестал интересоваться ходом церковной реформы, поэтому жалобы о «перегибах на местах» при внедрении новой богослужебной практики не находили в нём желаемого отклика.
В начале 1657 г. боярская оппозиция перешла к более активным действиям. Противники патриарха вызвали из ссылки Иоанна Неронова, принявшего постриг с именем Григорий, и устроили ему встречу с царём. Григорий назвал Никона «врагом Христовым» и еретиком и рассказал о многих злоупотреблениях, совершаемых при продвижении церковной реформы. Царь был поражён.
Между царём и патриархом началось охлаждение отношений, которое закончилось уходом Никона в качестве протеста из Москвы в июле 1658 г. Он обосновался в своём подмосковном Воскресенском монастыре, где пребывал до самого Собора 1666 года. Функции Предстоятеля в этот период исполнял местоблюститель.
После окончательного отстранения Никона и высылки его в Ферапонтов Белозерский монастырь реформа Церкви шла своим чередом, гонения на «раскольников» с годами всё усиливались. Кстати, термином «раскольники», который вышел из официального употребления ещё в XIX столетии, но нередко используется для определения старообрядцев и в наше время, следовало бы именовать не сторонников старой веры, как мне кажется, а тех, кто действительно расколол общество – членов кружка «ревнителей благочестия», которые не смогли найти общий язык в реализации своих теоретических представлений, и самого царя Алексея Михайловича, который, наигравшись с теорией «Москва – Третий Рим» и в результате увязнув в войнах с Речью Посполитой и Швецией, избавился даже от тех «ревнителей», которые встали на сторону реформы и поддержали его против Никона. Со временем основатели кружка Стефан Вонифатьев и Фёдор Ртищев были отстранены от двора, им на смену пришёл Симеон Полоцкий и его ученики. Впрочем, во всех бедах обвинили Никона, хотя, как было показано, церковная реформа началась ещё до возведения его на патриарший престол и продолжилась после его свержения.
В 1681 году царь Фёдор Алексеевич разрешил Никону вернуться в основанный им Воскресенский монастырь, но по дороге бывший патриарх умер в Ярославле. К этому времени Ярославский край уже стал одним из оплотов сторонников старой веры.
Радимир Строганов
Продолжение следует
Фото автора
Российское информационное агентство «Национальный альянс»
Еще на эту тему:
Часть II. Церковный раскол и история старообрядчества на Ярославской земле
Часть III. Церковный раскол и история старообрядчества на Ярославской земле